— Дженни придет сегодня? — спросил Сид.
Мне не хотелось отвечать. Придет или нет — не его дело, но что поделать, если он и так все увидит?
— Сегодня пятница, — ответил я.
Мол, зачем задавать глупые вопросы, если знаешь, что Джен приходит ко мне каждую пятницу. Пересекает невидимую черту — словно касается тонкого волоска-паутинки, натянутого поперек кованых ворот, мягко ступает по узкой тропинке, выложенной гладкими камешками. Подходит и произносит: «Здравствуй, Тед». Неделю назад я был Тедди. А через месяц, может, стану Теодором. Но это еще ничего. Сид вообще не Сид, а Роальд. Повезло с именем и с женой-мифологом. Спустя полгода от его ухода она начала видеть в муже того самого, мифического или не очень героя. С тех пор он время от времени покрывается доспехами, как больной — коростой, и поминает каких-то мавров. А все из-за того что один портрет Сида — вылитый Роальд.
Но лучше когда он Сид — не желает мне того же, что досталось ему.
— Может и не прийти, — подала голос Марша.
Марсия Смит вообще-то, поэтесса. Фамилия «Смит» и такое имя, как Марсия друг другу совсем не подходят. Пришлось ей в свое время изобрести громкий псевдоним. Он ее и погубил. Одному фанатику не понравилось, что поэтесса стала зваться как извесный рок-идол, и он выразил свое возмущение весьма радикально. Как по мне, так Марсия Осборн тоже не очень-то красиво звучит.
— Может и не придет, — согласился я.
Нет, Дженни хорошая. И у нее до сих пор правильные мысли обо мне. Неизменяющие.
— Интересно кто первым придумал, что ушедших надо помнить? — спросила Марш. — И зачем.
— Ну как, — начал рассуждать, чтоб не думать о Дженни, я. — Это своего рода долг тех, кто остается. Им так легче.
— Выходит, что они делают это ради себя, а не ради нас. Тогда не удивительно, что такой результат, — фыркнула она.
— Каждый подумает, глядя на Сида:
Честному сердцу больнее обида! —
взвыл Роальд, процитировав невесть кого.
Мы с Маршей долго угрюмо молчали. Потом она предложила:
— Хочешь, почитаю стихи?
— Почитай, — ответил я, чтобы ее порадовать.
У нас не много радости, и отнимать ее у кого-то — глупо. Я даже Роальду не запрещу радоваться, когда однажды он заметит — я тоже делаюсь мифом. Марша уже миф, но говорит — ей на пользу пошло. Стала лучше писать. Странное дело. Ее нет, а ее стихи есть. Но, кажется, я прослушал начало.
— Когда-нибудь, но не сейчас,
Рассудит время их и нас.
И что поделать, если есть
Простое «там», кривое «здесь»?
Когда ушел, то раз — и нет.
И там забыт и здесь допет,
Когда не миф и не святой —
Ты стал обычной пустотой…
Вот за что люблю ее — стихи — всегда к месту. И спасибо ее отцу, который помнит дочь, как прекрасного поэта — за то, что она все больше становится им.
— Да, это… — начал Сид и вдруг сорвался: — Дайте мне меч! Подлые предатели!
Слыша такое, я каждый раз горько усмехаюсь. Та драка, что стала для него концом, на самом деле ничего не закончила.
И вдруг он затих. А, понятно. Шаги. Дженни. В присутствии посетителей мы всегда успокаиваемся.
Она сегодня такая красивая. Длинная юбка и волосы заколоты как-то по-особому. И цветы Дженни положила на мою плиту особенно изящно, маленький букет нарциссов — как раз туда, где одно имя и две даты. Цветы хорошо прячут то, что не хочешь видеть.
— Знаешь, я…
И раньше, чем она договорила, слова начали превращаться в изменения. Всего лишь внешние — волосы сделались немного светлее, а глаза — синее. Как в зеркале, я видел все это в глазах смотрящего на меня Роальда-Сида. И безмолвно спрашивал — ну, что же ты не радуешься? Ведь это начало настоящего конца. Дженни перестает помнить меня реального и начинает выдумывать. Живые слишком живы, чтобы помнить ушедших без фантазий. Не менять их. Не делать… лучше, да. Красивее. Талантливее. И при этому — чужими, даже самим себе. Может, такими нас легче забыть, чтобы жить дальше. Только забывать надо сразу.
— Попроси ее, — тихо шепнула Марша.
Я молчал, прислушиваясь к тому, как Дженни рассказывает о себе. Что встретила «старого друга». Так вот в чем причина… Ей уже не до меня и хочется скорее забыть… «Да это всего лишь простуда!» — и все остальное, долгие дни в больнице, надежды, осложнения, потеря надежды и борьба за то, чтобы обрести новые — это должно уйти. И я.
Поэтому я не дослушал Дженни, а в самом деле попросил:
— Забудь меня. Слышишь? Забудь. Меня нет — и я есть. Все сразу. Я вишу в серой пустоте — помнится, кто-то из вернувшихся из комы описывал так ад — и жду тебя или окончательного ухода. Но пока ты помнишь, он невозможен. А ты уже начала не помнить, а выдумывать меня. Через год или два я стану таким, как ты придумала. И тогда… здесь, у нас, говорят, что таких не берут даже в ад. Никому не нужны чужие фантазии, нигде им нет места. Понимаешь?
Она не понимала, потому что не слышала. Но мои слова все же останутся с ней — как запах или вкус на корне языка, как смутная тревога. И позже, может быть, во сне, она прочтет их или услышит мой голос.
Дженни и сейчас что-то почувствовала, прервала рассказ, постояла еще немного и пошла по тропинке к воротам. Придет ли снова и когда? Я этого и хотел, и нет — тоже одновременно.
— Думаешь, получится? — спросил Сид.
Услышав его голос, полный отчаяния, я понял, почему он не радовался моим изменениям, которых так ждал. Там или здесь — нам обязательно нужно верить, что хоть у кого-то все будет хорошо. Ведь будет же?
Но на этот вопрос я тоже не стал отвечать.
20.07.16




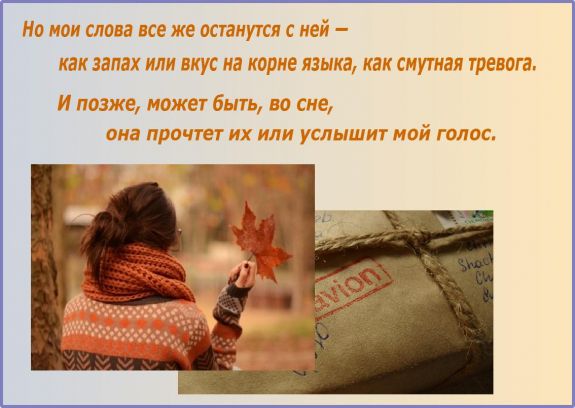











Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Если вы используете ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google или Яндекс, то регистрация займет у вас несколько секунд, а никаких дополнительных логинов и паролей запоминать не потребуется.