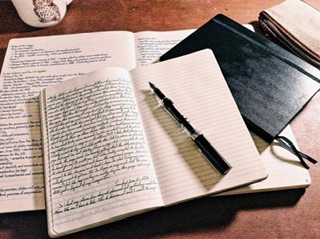
Здравствуйте!
Приглашаю на голосование нашего конкурса не новых, но поэтому лучших произведений, выдержавших проверку временем. Они настояны на вдохновении и бескорыстии.
Напоминаю, что тема: «Дела семейные»
К сожалению, пришли только 4 стихотворения и 4 рассказа. Мало. Ну… Значит, судьба такая!
Будем голосовать за две прозы и за два стихотворения. Итак, топ для голосования: два за прозу, два за поэзию. А что делать?…
Голосуем до 22.01
————————-
ВНАЧАЛЕ ПОЭЗИЯ. Так вышло, что почти все вначале присылали стихи, потом прозу. Ну и мы вначале стихи почитаем. А потом за прозу возьмемся.
Стихи!
N 1
Прощение
Бумагу терзаю. А кого же ещё мне терзать?
Одиноко и пусто в просмолённой как лодка квартире.
Тишину прерывает лишь медный трёхчастный набат
Старых ходиков. Помнишь? Петровы на свадьбу дарили.
От той свадьбы лишь тени остались в шкафу,
Пожелтелых торжеств засыхает в альбомах гербарий,
Да вот ходики эти меня провожают ко сну,
На скрипучие чресла натруженной старой кровати.
Я терзаю бумагу, корябаю письма тебе,
Знаю, что не прочтёшь, что надеяться глупо,
Только с ломким пером меня вновь застигает рассвет,
Словно молящего о напрасном прощеньи Иуду.
… Я терзаю бумагу…
N 2
Уик-энд на одной из планет Созвездия Дракона
Собираемся
Из двери в дверь – до гостиницы
четыре часа.
Брать книгу в дорогу? Тапочки?
Блокнотик для умных мыслей?
Первый раз в космос.
Как сложно всё…
Выходим
Погоди же! Дай сфоткаю
кофе и свой надкушенный бутерброд –
для блога. Назову:
«Последний завтрак на планете Земля!»
Ой, да бегу, бегу…
В салоне звездолёта
Ура, сейчас полетим!
Слушай… кто это там –
ползёт по стеклу с той стороны?
Может, это уже…
какая-то форма инопланетной жизни?
А… робот-уборщик…
Как темно за бортом корабля
«Жаль, что не видно
метеоритных потоков, огромных сияющих звёзд,
несущихся мимо… Но всё равно –
побывав в бесконечном космосе, понимаешь,
как же, на самом деле, ты мал…
И, поняв, ты никогда,
никогда уж не будешь прежним!»
(А новый лак темноват…
Или тут освещение такое?)
В парке драконов на стеклянном мосту
Давай, давай, лезь!
По хвосту, ближе к ушам!
Вот так, отличный ракурс…
Ещё один снимочек, улыбка… Ну улыбнись!
А-а-а! Хватайся за его зуб! Держись крепче!
Уф… А прикольно! Одно фото…
Ну разочек ещё, ну пожа-а-а…
… Ой, бедненький, больно?
А мы ножку потрём, подуем, ушиблась ножка…
Что? Другая нога? А… извини…
(Интересно, что значит «массаракш»?)
Кормим змеекрыльцев на «Площади тысячи дорог»
(или «тысячи ветров»? Как-то так, главное, что красиво)
С пакетиком местных зернышек
идём кормить этих…
змеев или ящерок… с крыльями, толстыми лапками…
Зёрна стукаются о плиты, катятся,
словно разбегаются по всем этим тысячам дорог,
а я приманиваю:
«Репти, репти, репти!»
Это мог быть лучший снимок
Открыла дверь на балкон,
а там – закат:
лиловый, оранжевый, медный, синий, розовый, ярко-жёлтый.
Я смотрела и смотрела. И забыла, что надо снимать.
Муж пришёл и тоже смотрел – молча, обнимая меня за плечи.
Потом наступила ночь.
N 3
Скелет в шкафу
Какая чУдная семейка!
Смотрю — и тошно. Сплошь притворство,
Где правды нет и на копейку.
Лишь лицемерие, позёрство.
Сама — ничуть не изменилась.
Всё те же маски, а не лица.
Снаружи хрупкость и ранимость,
В душе — коварная лисица.
А этот… лопает свой ужин,
И в ус не дует, тешит брюхо.
Спросил бы — с мужем что случилось?
И я б шепнул ему на ухо.
Про первого… иль про второго?
Иль третьего? Смешно, ей-Богу!
Хотя… чего же тут смешного?
Тут надобно судить. И строго.
От всех злодейств храню я нити.
Я знаю много!.. слишком много…
…
Так думал, но… боялся выйти
Скелет из шкафа платяного.
N 4
Будни
Я уйду. Захлопну дверь
Не вернусь, не оглянусь
Горю будничных потерь
Лишь сквозь слёзы улыбнусь
Как обычен мой уход
Те же фразы, тот же взгляд
Тот же перечень забот
Те же жесты невпопад
То же всё до мелочей –
Ты, твой кофе, скуки след
Запах тлеющих свечей
Эхо слов: «Вернусь в обед»
Если хватит сил уйти
В неизвестность сделать шаг
Опыт горький мой, прости
Я уйду. Да будет так.
Пусть, как встарь я ошибусь
Пусть раскаюсь, горько пусть
И с пути не раз собьюсь
Пусть, обратно не вернусь
Никогда не стану я
Скучной тенью серых буден
Лучше б не было тебя
Или пусть меня не будет
Проза
N 1
Привычно бросаю портфель на маленькую, обитую бархатом скамеечку в коридоре и, не разуваясь, прямо в грязнущих ботинках, шлёпаю в зал. Сегодня пятница, ночую у папы. Замечательные ощущения — впереди почти три дня абсолютного наслаждения и ничегонеделания. Папа не из тех, кто сильно заморачивается досугом своего ребёнка. Он сам — большой ребёнок. Недавно ходили с ним в зоопарк, и я его потерял. По-настоящему. Даже испугался. Куда мог деться взрослый мужик в несчастном зоологическом саду? В какой-то момент мне даже пришла в голову нелепая мысль, что он случайно рухнул в вольер к крокодилам или его сожрал голодный медведь, или… В общем, я всегда был мальчиком с переразвитым воображением. Да и ситуация попахивала абсурдом: обычно это родители теряют детей, но никак не наоборот. Я поднял на уши весь персонал зоопарка, мы несколько раз вызывали его по радио, просили подойти к кассам, заглянули чуть ли не в каждую клетку или камень в вольере, и, наконец, нашли его. Он языком глухонемых разговаривал с шимпанзе. А тот ему отвечал. Вокруг собралась, как это обычно бывает, толпа зевак. Причём и с той, и с другой стороны стекла. Ни те, ни другие не понимали, что происходит, а обезьяна и человек мило беседовали и были настолько увлечены разговором, что не замечали никого вокруг.
«Он прекрасный собеседник», — оправдывался потом папа, — «У него очень интересная трактовка диалектики Канта, кроме того, нам обоим нравится Армстронг, и вы с этими недалёкими надсмотрщиками на самом интересном месте прервали наш спор о том, трубач он в первую очередь или всё же певец».
— Ты опять не снял ботинки. Сашка, ну сколько раз тебе говорить? У меня уборщицы нет.
— Почему, кстати? Ты вполне можешь её себе позволить.
— Чтобы бабушки у подъезда, которые итак меня ненавидят, вконец обнаглели и сожрали меня живьём?
— А за что тебя ненавидеть?
— За многое. За книги, за музыку, за то что не знаю их имён, а также кличек их собачек, попугайчиков, кошечек, здороваться привык кивком головы… Да мало ли? Вообще, для ненависти причина не нужна. Как и для любви. А ты, между прочим, свинья.
— Так и обидеться недолго.
— Обижайся сколько влезет. В обнимку с «лентяйкой». В конце концов, я не твоя мамочка и не собираюсь подтирать за тобой дерьмо до конца дней. Учись быть мужчиной. Кто иначе позаботится о нашей любимой маме?
Бурчу что-то себе под нос, но покорно возвращаюсь в коридор, снимаю ботинки, захожу в туалет за шваброй и натираю до блеска паркет. Папа всё это время сидит на диване, делая вид, что увлечённо читает газету. Иногда бросает на меня весёлый, добрый взгляд из-под толстых, в роговой оправе, очков. Я всё ещё дуюсь, едва сдерживаю слёзы, глотаю ядовитые фразы, готовые сорваться с языка, но продолжаю драить паркет.
— Ладно, хватит кукситься, — не выдерживает отец. — Был неправ, извини, тяжёлый день.
— У тебя всегда тяжёлый день.
— Не перебивай старших. Это некрасиво. А знаешь, что делали с некрасивыми детьми в Спарте?
— Ничего не делали. В море они сбрасывали тех, кто болен и слаб.
— А разве не в силе красота?
— Нет. В красоте — сила.
— Уделал старика. Форму теряю. Ладно, иди ставь чай, будем баранки есть.
— Ура! Баранки! — кричу я и устремляюсь на кухню. Естественно, бросив на пол швабру.
— Саша! А… — говорит отец мне вслед, машет рукой, встаёт с дивана, поднимает несчастную «лентяйку», уносит её из комнаты, приговаривая, — Неисправимый мальчишка. Весь в меня.
На кухне уже посвистывает чайник. В вазочке на столе блестят пышным бочком баранки. Папа степенно накладывает заварку в маленький чайничек, кидает в тонкостенные кружки сахар — всегда по две ложки (и не важно, что обычно я пью чай без сахара) — достаёт из холодильника молоко.
— Ты будешь? — спрашивает он меня.
— Нет, спасибо.
— Эх, не стать тебе никогда английским лордом, — шутливо укоряет меня отец.
— Не очень-то и хотелось, — в тон ему отвечаю я.
— Кстати, сколько можно кипятить воду? Чай не может ждать так долго!
— Чай может всё, дорогой Андрей Михайлович, — говорю я наполняя заварочный чайник кипятком.
— Неправда ваша, Александр Андреевич, неправда. Но что же мы? Баранки стынут — разливай да налетай.
На некоторое время за столом воцаряется молчание — мы с отцом слишком заняты чревоугодием, чтобы ещё и на разговоры отвлекаться. Но всё же, после третьей чашки чая, я задаю вопрос: «Пап, а как ты познакомился с мамой?».
— Я же тебе тысячу раз рассказывал.
— Ну, расскажи в тысячу первый.
— Никак мы с ней не знакомились. Встретились на вечеринке у общих друзей.
— Вечеринка была в книжном?
— Почему в книжном? — удивлённо спрашивает папа.
— Потому что так мне рассказала недавно мама. Ты тогда прямо у неё из под носа увёл последний томик Булгакова, она расплакалась, а ты вернул ей книгу, разразившись при этом пламенным и чувственным монологом.
— Ах, это… — отец чешет затылок, смотрит в потолок, словно бы пытаясь что-то вспомнить, потом говорит — Да, что-то подобное припоминаю. Только это был не Булгаков, а Киплинг. И это не я у неё, а она у меня увела последний томик. Впрочем мы довольно быстро сошлись в цене. Я выкупил его за ужин в ресторане, букет цветов, поцелуй и обещание непременной скорой встречи, которая как раз и произошла на дне рождения у Брунеевых через пару дней после того самого ужина.
— Какой-то ты не романтичный, папочка…
— Тебе мало твоей сверхромантичной матушки?
— Хватает вполне. Но неужели это всё?
— Нет, конечно, не всё. Мы долго встречались, гуляли, разговаривали о Бродском, Высоцком, строили планы — она хотела писать картины…
— Мама? Картины?!
— Да, представь себе! Она была достаточно известным художником в весьма узких кругах. Я, честно говоря, всегда плохо понимал её это искусство, часто мне казалось, что она и сама его плохо понимает.
— А что это было и почему я никогда не видел ни одной её картины?
— Не видел потому, что в один прекрасный день она сожгла свою мастерскую. Просто взяла и сожгла. Со всеми готовыми и неоконченными полотнами. И больше никогда не притрагивалась ни к кисти, ни к краскам. Говорила: «Я больше не чувствую их».
А что это было, сказать трудно. В основном круги. Самых разных размеров, цветов, в самых причудливых сочетаниях. Одна из картин называлась «Кровь». Чтобы её написать, она вскрыла вены и забрызгала холст собственной кровью. Её еле откачали.
Меня пробила непроизвольная дрожь. Всё-таки не каждый день слышишь подобные вещи о собственной матери.
— А ты? — спросил я после весьма продолжительной паузы.
— Что я?
— Ты говорил, что вы строили планы. Она хотела писать картины, а ты?
— А я считал себя поэтом. Ошибочно, насколько понимаю теперь.
— Подожди. Как можно себя считать поэтом?
— Просто. Это всё равно, что одеть рубашку не по размеру и гордо носить её каждый день, не замечая, что она волочится за тобой по земле. Так вот, возвращаясь к планам — я хотел написать великую поэму. Такую, чтобы запомнилась потомкам на долгие тысячелетия и прославила моё имя.
— Написал?
— Ага. Пару строф. И те постоянно переписывал. Наконец, мне это надоело, и я забросил подальше блокнот с ручкой.
— Но хоть что-то же осталось? — с затаённой надеждой спросил я.
— Лучше бы не оставалось. Я гораздо слабее твоей матери. Может быть, поэтому и не смог её удержать.
— Почитай что-нибудь, пап.
— Брось. Хочешь посмеяться над стариком?
— Не хочу я ни над кем смеяться. Просто мне интересно.
— Интересно что?
— Вы. Ты и мама. В конце концов, я — не больше, чем ваше отражение.
— Ну-ну-ну… Не наговаривай. Но про отражения у меня есть пара строчек, если конечно, ты и вправду хочешь их услышать.
— Хватит кокетничать, папа! Читай уже.
— В тени напрасной суеты
забыто зеркало.
Вся жизнь уложена в тюки
так неприветливо
Теряют смысл слова мои
и отражения
Свободой переполнен дом
до отторжения
И нам так холодно вдвоём
на склизкой паперти,
Так жаль, что предаём огню
листы тетрадные.
В тени напрасной суеты
забыто зеркало
И ты к лобзаниям моим
так неприветлива…
N 2
Семейка под крышей
Я поднялась в мансарду, оставила сумки с привезёнными из города вещами на полу в прихожей. Выглянула из окна. Две недели прошло, вот и жасмин уже отцвел… Задернула тонкие шторы — темнота не наступила, но свет стал мягким, приглушенным.
Упала на кровать. В день приезда меня освобождали от огородной барщины. Вечером посмотрим с мамой детектив, отец обещал пирог на ужин… Хорошо!
Да, хорошо… Но в углу, где-то в простенке или под крышей опять жужжали. А родители обещали, что выведут этих… кто бы там ни был. Забыли или не помогло?
Достала «отпугиватель», сунула в розетку. Вроде попритихли…
Яблочный пирог, фильм, книга до двух часов ночи. Наконец выключила свет и забралась под одеяло. «Отпугиватель» светил в глаза ярким зелёным огоньком. Загородила его своей сумочкой, перевёрнутой на бок. Громоздить какие-то иные баррикады не было никакого желания — только спать…
В углу жужжали. Да ещё куда громче, чем днём. Или они возвращаются к ночи и теперь там многолюднее (или как уж лучше сказать)?
Голоса были разные — один жалостный и тоненький, другой — резкий бас, вступили ещё какие-то, и ещё… Потом они стали потише. Зелёный огонёк больше не мешал. Я засыпала…
— У меня от этого звука голова болит! — повторял кто-то плачущим голосом. — Дайте мне таблетку, наказание какое-то… Я же не усну. Положите полотенце на лоб. Я летала, я устала. Никому до меня нет дела, никому…
Она говорила монотонно, жалуясь и причитая. Какая-то женщина лет сорока-сорока пяти… Другая, судя по голосу и интонациям, чуть помладше, отвечала ей время от время:
— Перестань, не ной ты. Они же и раньше так делали, потерпи. Скоро пройдёт. Ну как дождь — то есть, то нет.
— Вот если бы у тебя так болела голова, если бы у тебя… О-о… Ведь всё на мне. Полы подмети, кастрюли помой. А кто мне поможет, кто за меня что-то сделает? И ещё летала…
Низкий, внушительный бас:
— Всё летали. Затыкаем уши и спать! Завтра работы полно.
Другой мужской голос:
— По рюмочке выпить, такой сон будет, что мама не горюй.
— Всё по рюмочке да рюмочке…
— Не жужжи ты, слушать тошно, — незнакомый голос, чуть дребезжащий. — У меня вообще давление, и что ж. В молодости, бывало, работали и работали, то один цветок, то другой, ведёрко за ведёрком таскаешь. И домашние дела, и всю семью обшиваешь. И не жаловались. Работать надо побольше, тогда и болеть ничего не будет.
Когда это кончится?? Когда они замолчат?
Я уже совершенно проснулась, сунула ноги в тапки. Пойду молока попью. Приснилась же ахинея…
Вернулась, спряталась под одеяло. Жужжание почти стихло.
— А ты не выключай отпугиватель, — сказала мама за завтраком. — Они улетят, никуда не денутся.
— На разные голоса жужжат, правда, вот ведь идиотизм какой…
— Ничего, сбегут как миленькие!
— Ещё и колотятся иногда. Как будто хотят ход ко мне пробить… Неприятно.
— Колотятся — это хорошо. Значит, не нравится им.
Ни одного комара и близко не осталось, мух и мошек тоже. Но эти, уж не знаю, кто они были, никуда не девались. Значит, они куда сильнее… Было страшновато, если честно. Вот найдут лазейку, вылетят в комнату. Укусят. Когда я начинала размышлять, как могут кусануть те, кто сильнее комаров, мне становилось не по себе…
Каждую ночь, в тот момент, когда проваливалась в состояние между бодрствованием и сновидением, я слышала их разговоры. Потом, когда окончательно уходила в сон, начинали сниться разные сюжеты — уже не обязательно связанные с жужжанием.
Отпугиватель я не выключала. Но те, кто жил в том углу, не уходили…
Ночь. Жалобные вздохи. Неторопливые возражения… Бормотание скороговоркой… Веселый и бодрый голосок:
— Давайте переселимся. Я тут видела хорошую квартирку, совершенно пустую. И гораздо просторнее, чем наша! Заглянула туда сегодня, когда с клеверной поляны возвращалась, зарисовала планировку. До клевера, кстати, оттуда гораздо ближе. И вид из окна на лес — ой, так красиво! Бабуль, ты что хмуришься, ты против?
— Переселимся? — сердитое жужжание явно пожилой дамы. — Ты в своём уме? Мы здесь живём испокон веков, ещё прадеды наши… Вот эта полочка — её сделал мой отец, каждую веточку принёс, своими лапами. Видишь? Эти книги собирала моя тётя, сколько сил потратила. А резная кровать? А картины? Это наше родовое гнездо! Надо потерпеть! Ни шагу отсюда не сделаю и другим не дам!
— Ну подумаешь, вещи! Вещи упакуем. А мебель — дело наживное! Па, ну скажи!
— Наживное? — запричитал плаксивый голосок. — Ты наживи, наживи, а потом разбрасывайся… А обо мне кто-нибудь подумал? Мои нитки, мои запасы — пятьдесят два мешочка. Старалась, собирала, увязывала. Кто это всё понесёт? Я, больная и усталая?.. Никто, никто обо мне не думает…
— Тихо! — припечатал внушительный бас. — Завтра обсудим. А сейчас спать надо.
— И спать я не могу, глаз не сомкну, что же это за наказание, лапы болят, всё утро соленья закручивала, за всех работала по своей доброте…
— Не ной!
Раздался стук, прямо в стенку. Тот который я уже слышала несколько раз. Может быть, тот, кто требует не ныть, бьёт раздраженно кулаком по дереву?
Плаксивый голос тут же отозвался:
— И дверца эта, чуть что, так и колотится прямо надо мной, а мне вставать рано…
— Починю завтра, починю! Спи!
Потом всё затихло, только жалостные жужжания слышались иногда, тихие, как вздохи. И какой-то лёгкий звон раздался пару раз. Рюмки?..
Как всегда на границе сна и яви мне представилась какая-то чепуха. Эти разговоры. Непрошеные жители — бабушка с наброшенной на плечи серой шалью, грузный отец семейства в пижаме с несколько выцветшими полосками, худая, вечно жалующаяся женщина, молодая девушка в свитере с карандашом и бумагой — она что-то деловито считает, а в щели, аккуратно отделанные по краям, просачиваются и бродят туда-сюда ещё какие-то не то родственники, не то гости…
Нет, какова наглость. Их родовое гнездо!..
Однако мои усилия не были зряшными. Дни отпуска нанизывались, как бусины, на одну временную нить, и я скользила вслед за ними в безмятежном однообразии дачной жизни. А жужжание из ночи в ночь становилось тише. «Ага, улетаете! Вы упрямы — а я упрямее. Так-то».
В один из дней перед отъездом решили растопить баню. Тем более и дождь собирался, на участке всё равно не поработаешь. Мне поручили принести дрова. Я отправилась к поленнице возле хозблока, и тут что-то прожужжало около меня — маленькое, деловитое. Потом ещё.
Оглянулась и увидела упитанного шмеля, влетавшего куда-то в щель под крышей. За ним другого. Издали показались ещё несколько. Они несли узелки, чемоданы, последний очень бережно держал в лапах обёрнутый берёзовым листком квадратик — видимо, одну из их картин.
Если бы я не приглядывалась, то решила бы — ну шмели и шмели, угнездились тут… Но теперь-то я понимала больше. Это было великое переселение из родового гнезда в чужое жилище. Мне стало жаль шмелей. Да, мы не ужились вместе. Но как же их фамильная мебель? Её-то в лапах не перенесёшь.
Но скоро отлегло от сердца. Я заметила, что они вдвоём-втроём тащат то деревянный прямоугольник, то нечто вроде матраса. Разобрали и перевозят кровати и шкафы по частям. А полочки — это уже совсем легко будет. Теперь по вечерам станут обустраиваться, раскладывать вещи, книги. А вид с того места — прямо на клеверную поляну…
N 3
Зависимость
— Подкаблучник ты, Ваня, — Петрович покачал головой, — моя у меня знаешь где? Во! — и он поднёс к носу собеседника сжатый кулак, демонстрируя, где у него находится благоверная.
— Не прав ты, Петрович, — возразил Иван Васильевич, — подкаблучников нет в природе, а вот сама природа есть вместе с её законом самосохранения. Даже инстинктом, если хочешь знать. А у так называемых «настоящих мужиков» он напрочь отсутствует. Услышали какую женину глупость — и пошли доказывать своё. А потом терпят и вынос мозга, и слёзы, и заканчивается всё тем, что сами же и прощения просят. А умный мужчина, в ком жив этот самый закон самосохранения, кивнёт этак головой: «да-да, дорогая…» — и пошёл отдыхать на диван.
— Это что же получается? — засмеялся Петрович. — Что нужно потакать бабьей глупости?
— А послушай-ка, что сказал один умный человек — не спорь с дураком, не то опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом. Разве ж глупому докажешь, что он глуп? Это, как и сумасшедшему доказывать, что он сумасшедший, а всем известно, что каждый сумасшедший считает себя нор…
Яркую речь Ивана Васильевича прервал «Реквием».
Он выхватил телефон со скоростью дуэлянта на Диком Западе:
— Да-да, дорогая, уже иду…
И поспешил к подъезду.
…
— Тебя не за хлебом, а за смертью посылать, — сердито встретила его жена.
— Да, меня Петрович остановил, поговорили немножко.
— Нашёл с кем разговаривать! С алкашом, дебоширом! Я тоже как-то поговорила с его женой!
— Да… — начал было отвечать Иван Васильевич, но вовремя прикусил язык, не дав вырваться словам: «он не алкаш…».
— То-то и оно, что «да», — проворчала жена, а Иван Васильевич, переведя дух, поспешил на кухню, откуда доносился восхитительный аромат жареных котлет.
Перед ним сразу же появилась тарелка, он отломил кусочек котлеты, отправил в рот и блаженно закатил глаза. Жена меж тем, продолжала ворчать, во всю чихвостя Петровича, а Иван Васильевич лишь кивал головой, чем окончательно вывел её из себя.
— Ну, что ты всё киваешь?! Как китайский болванчик! Хуже нет вот таких молчунов. Другой не сдержится, выскажется — так хотя бы знаешь, что у него на уме. А ты… ни поговорить с тобой, ни обсудить что-то. Мало ли, что ты там про себя думаешь?
А Иван Васильевич и думал:
«Ишь, ты, поговорить нельзя, как бы ни так… вот видела бы ты, как слушают меня в отделе, особенно Людочка. Мне стоит лишь начать говорить, как она сразу застывает, открыв рот. Каждое слово ловит. А однажды даже намекнула, что мечтала бы иметь такого мужа, как я. Такого умного».
И жуя котлету, он на миг представил Людочку своей женой.
Вот он приходит с работы, садиться за стол, и… и тут он вспомнил, как та однажды принесла пирог собственного приготовления. Как он попробовал кусочек и еле-еле проглотил.
«Нет уж, — вздохнул Иван Васильевич, — бог с ней, с Людочкой…»
Да, разве сравниться её пирог с жениными кулебяками да пирогами? С борщами да котлетами?
Не иначе приворожила она его своей стряпней, впал в зависимость, да так, что и не соскочишь.
И нежно глянув на всё ещё ворчащую жену, он протянул ей тарелочку и попросил добавки.
N 4
ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ
Зайчиха с зайчатами пришла к волку:
— Ну что, красавчик, не ждал? Слышал уже, что меня муж бросил? Ушёл, подлец, к лисе-вертихвостке. А у меня дети! Считай, сколько! Значит, так. Ты у нас в лесу один холостой. Будешь мне мужем.
— Чо? — опешил волк.
— Ни чо, а сейчас как промеж глаз врежу, узнаешь! В общем, повезло тебе. Я мастерица – вон, скалку сама смастерила. И красавица. Ты смотри, какая шубка! А носик? А глазки? Нравлюсь – женись!
— Чо? — совсем растерялся волк.
— Чо-чо! Детей наших будешь воспитывать, им отец нужен. Жильё у тебя тёплое, годится. Ну, готов? Давай! А то врежу!
— Я это… ну… мне бы волчицу…
— Что-о?! Один негодяй к лисе сбежал, и ты мне про волчицу?! Нет волчиц в нашем лесу!
— З-знаю, — промямлил волк, косясь на скалку.
— Правильно косишься. Так женишься?
— Д-да… но… как, то есть?
— Просто! Дети, как я учила?
Зайчиха обернулась к зайчатам и взмахнула скалкой:
— Все вместе, хором!
— Папа, папа, — запищали зайчата.
— А… и что теперь? — окончательно обалдел волк.
— Целуй меня в носик, немедленно!
Волк встал, и на трясущихся лапах приблизился к зайчихе. Зажмурился и лизнул её в нос.
— Вкусная, — не сдержался и сказал вслух.
— Я знала, что понравлюсь. Да такая жена — любому счастье в дом. Вот и славно, муженёк. Ты теперь детей корми, воспитывай, а мне недосуг.
— Чем корми? Я ж это… вас ем.
— Своих детей?! Свою любимую жену?! Ты что, зверь?
— Да я нет, я это… но чем кормить-то?
— Во мне муж достался! Ничего не знает! Морковкой и капустой. А мне некогда. Да, и позанимайся с ними. Сказку на ночь почитай.
— Совсем озверела, зайчиха? Ты куда, на ночь глядя? — возмутился волк.
— Ну, ты даёшь! — зайчиха отложила скалку. — Мне в парикмахерскую надо к сове, мех на ушах совсем растрепался. А сова, сам знаешь, открывает после заката. Мне шубку у мышки-полёвки почистить, мне маникюр у ежа сделать. Должна твоя жена быть красивой? Или будешь с зачухонной чувырлой по лесу гулять? Зверям же на глаза стыдно показаться!
И что значит: озверела, зайчиха? Я для тебя теперь любимая! Повтори, как надо!
— Совсем очумела, любимая? — послушно повторил волк.
— То-то! Всё, я ушла. Дети! Слушайтесь папу!
— Да, мамочка, — пропищали зайчата, махая на прощание лапками.
— Да-а, — сказал волк, — Влип я, кажется. Но если подумать: она же красавица. И вкусная. И… и… хорошая хозяйка. И… и своих есть нельзя, она права. Своих надо кормить.
Сел, почесал лапой за ухом и, вздохнув, пошёл в деревню за капустой.
Это был порядочный волк.



Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Если вы используете ВКонтакте, Facebook, Twitter, Google или Яндекс, то регистрация займет у вас несколько секунд, а никаких дополнительных логинов и паролей запоминать не потребуется.